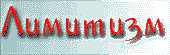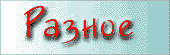|
Везде, у всех народов, добродетель почтенна, а пороки — в презрении, не верь никому, чтобы у какого-нибудь племени иначе дело обстояло. Человек везде человек!
Христианство потому не нравится японцам, — сказал Хигучи, — что мы требуем от религиозных людей прежде всего нравственности. Этому научил нас Конфуций. Конфуцианство у нас очень распространено... А морали не всегда видим мы в христианской Европе
Вот японцы, заимствуя материальную культуру от англичан и американцев, от нас взяли только православие; может быть, правы Соловьев и Достоевский, говорившие, что русским суждено дать миру универсальную церковь и все братство народов; это тем более любопытно, что многие говорили мне, будто бы русские рабочие учат все народы социализму
Попав в Японию, с великим удивлением глядел я, что граждане этой страны умеют древний уклад жизни сочетать с новыми открытиями науки и с высокой техникой. Счастливый народ Востока!
|
Когда поезд тронулся и направился между горами и по туннелям от
Цуруги до Майбары, и мы успокоились, я заметил, что во мне возникла
какая-то новая мысль, неизвестная мне дотоле.
"Дивное дело, — думал я. — Цуруга — почему название японское
кончается на "уга", ведь "уга" и "юга" — это финские корни, означающие
реку. А вот, говорят, впереди станция называется Майбара. "Майбыр" —
слово зырянское и означает "счастливый". Да, непонятно. И лица японские
напоминают или зырян или финнов."
После этих новых дум, я усердно стал читать самоучитель японского
языка Ив. Сенумы. И удивление мое возрастало.
Но я еще никаких обобщений не делал о родстве народов и языков, я
был только еще у порога тайн и был удивлен и смущен.
Между тем поезд несся между горами к станции Май-бара, часто
погружая нас в туннели. Когда же он был на высоких местах, я видел в
окно вагона узкие долины пред собою. Хотя мелкий дождь лил, все же
картины сельской жизни ясно рисовались нашим взорам... Я видел
движущиеся снопы риса, но то были не снопы, а японцы в соломенных
плащах, около их маленьких домиков зеленели сады, плантации табака и
чая...
Горизонты были не широки, но казалось, что все обработано в долинах,
что только можно было возделать, а ближние и дальние горы, залитые
лучами солнца из-за облаков, внушали нам, что эта страна недоступна ни
для хищений, ни для завоеваний. Пока я вел разговоры с кондукторами,
молодыми людьми небольшого роста, одетыми в такой же костюм, как
финские кондукторы и с такими же лицами, мы услыхали крик:
"Майбара"!
Мы подъехали к этой многолюдной станции. Выскочив на площадку
вместе с Кузьмичом, я стал покупать всякую мелочь у торговцев: и
кальяны, и папироски, и лакомства, и пищевые продукты всегда в
красивых коробках, завязанных изящно цветными лентами... Подходил к
детям и с ними беседовал, некоторых обнимал, поднимал в воздух на
руках. А те, радостные, бежали за нами с криком: "Рус, рус!".
Волосы мои развевались, я как безумец со всеми говорил, всех
расспрашивал, почему Майбара называется Май-барой.
— Так исстари называется — Майбара — пояснял мне кондуктор
полурусски, полуяпонски. Он, не доверяя моему разуму, постоянно
следил за мною, чтобы я далеко не отходил от поезда. А когда пришло
время отъезда, взял меня за руку и посадил в поезд: "Садись, садись,
дядя, опоздаешь"...
И на всех станциях он также усердно оберегал меня и все рассказывал
мне при помощи рисунков, мимики и телодвижений о жизни японцев... С
умилением глядел я на молодые лица кондукторов, удивлялся быстроте
их движений. То соскакивали с вагонов они чуть не на ходу, то обратно
впрыгивали на площадку.
Лакомства, купленные нами, и пищевые продукты оказались для нас
несъедобными, и если бы не столовая в самом поезде, где все было
устроено на английский лад, мы умерли бы с голоду. Но так как вагоны
все соединены один с другим так, что ходили мы по поезду, как по
коридору, то мы скоро нашли эту столовую...
Ночь спустилась раньше, чем это желательно было бы для меня. То
благодаря туману, то благодаря темноте, я так и не видал знаменитой горы
Фуджи-яма, а между тем на этой-то горе и живет, может быть, богиня
солнца — Аматера... Уже при огнях прибыли мы в Иокогаму, где оставил
вагон наш сопутник-англичанин из Сиднея с памятной книжкой в руке.
Сквозь постройки видел я большое море, покрытое пароходами
различной величины с целым лесом мачт... Через полчаса приехали мы на
станцию Симаши, т. е. в город Токио.
Еще стоя на площадке вагона, услыхал я звонкий шум от топота ног.
Толпы японцев шли по каменной платформе, производя своеобразный
шум своими деревянными башмаками, т. е. дощечками на деревянных
каблучках, которые были привязаны к ногам. Большая часть их одета
была в кимоно, длинное цветное одеяние с широкими рукавами. На
головах были или соломенные шляпы, или шапочки.
Вся эта толпа двигалась к выходу вокзала при электрическом
освещении. Внимание мое было поглощено невиданным зрелищем...
"Где я? — думал я про себя. — В какой светозарной таинственной
стране, где все просто и изящно?"
Очнувшись как бы от сна, мы с Кузьмичом в сопровождении
кондукторов тоже направились к выходу, взявши свои вещи... На конце
платформы встретили мы огромную толпу рикш, о чем-то галдевших.
Видно, они звали публику...
Мы не знали, что им сказать, также не знали, куда ехать, как не знали,
для чего и приехали. Рикши окружили
нас, хватали за рукава и что-то говорили, мы беспомощно махали руками.
Наконец, несколько черноглазых японцев прибежали в пиджаках и стали
расспрашивать нас, куда нам ехать, и называли нам несколько английских
гостиниц... Мы отвечали им, как умели: "Нет, нет... Нам нужна ядойа,
ядойа, японская гостиница".
"Камимура, Камимура", — твердил Кузьмич фамилию содержателя
одной японской гостиницы. Окружающие смеялись над нашим страстным
желанием непременно попасть в японскую гостиницу, а не "в
европейскую".
Наконец, быстрые японцы чуть не взяли нас на руки и посадили на
трех рикш: вещи в одну тележку, а нас на другие две. Еще немного
поговорив с рикшами, японцы в пиджаках отпустили нас.
Курумаи (рикши) быстро побежали по улицам Токио, везя нас к
Камимуре... Мы дивились диву, глядя на узкие улицы, своеобразные, с
плоскими крышами постройки, с большими открытыми дверями или вовсе
без передних стен, так что все было видно, что делается внутри, на бес-
численные изящные магазины с красивыми японскими вывесками из
полуиероглифов. Все это было покрыто при этом снопами лучей
электрического освещения...
Я ехал впереди, а Кузьмич за мною.
— Кузьмич, — спросил я его, — во сне мы или наяву?
— Сам не знаю, — ответил тот.
— Боже мой! Город Токио вижу я, безумный Гараморт!
Через час быстрого бега по различным улицам и переулкам, то
поднимаясь на горы, то опускаясь в долину, рикши остановились перед
какой-то странной постройкой и сказали нам: "Камимура". У входных
дверей при электрическом освещении увидали мы маленького человека,
окруженного с одной стороны молодыми парнями, с другой —
девушками с длинными косами. Они все поклонились нам до земли. Мы,
выскочив из тележек, ответили им тем же.
После этих приветствий хозяин взял нас за руки и повел к лестнице, и
посадил на стул, знаками показывая нам, чтобы сняли мы сапоги с ног.
Мы исполнили это и надели туфли, которые предложили нам, и затем,
поднявшись, пошли длинным коридором до комнаты, которая нам предназначалась.
Она была четырехугольной формы без стульев и столов. Мы не
знали, что и делать и как поступить, но молодой человек, который
проводил нас, велел нам, снявши верхнюю одежду, сесть на подушки на
полу, покрытом циновкой. Мы сели и посмотрели другна друга,
мысленно спрашивая: где мы и что мы. Вскоре пришла девушка
небольшого роста с длинной косой и с черными глазами и, снова
поклонившись до земли, положила перед нами горшок с пеплом.
Я попробовал горшок — он был горячий, там был пепел и уголь.
Совершенно не зная, что с ним делать, я стал вращать его рукой. Но
Кузьмич, как человек более догадливый, промолвил: "Полно, Гараморт,
вращать-то его, дай-ка я закурю из пепла". И мы с ним закурили по
папироске.
Только потом мы узнали, что пепел означал домашний очаг, к
которому нас приобщили...
Вскоре пришел хозяин, маленького роста человек без бороды, и,
поклонившись до земли, подсел к нам. А девушка принесла чайник и
маленькие японские чашечки, кроме того, небольшие куски белого хлеба,
покрытые маслом. За ней пришли и другие молодые люди и девушки и
сели все около нас. Мы хотели было начать разговор, но нас не понимали,
ни по-русски, ни по-немецки.
Тогда хозяин стал пальцы свои считать... Мы показали ему паспорт, но
он махнул рукой, что-де не нужно ему его. Кузьмич, наконец, догадался,
что он спрашивает, сколько нам лет, и на пальцах отсчитал свои года и мои.
Хозяин был доволен и улыбался... Мы также назвали ему имена свои. Но
он долго не мог воспринять звуков. Также рассказывали мы ему, что
приехали лекции читать, но он не понимал... Тогда Кузьмич, указывая на
меня, произнес слово: "Николай", и все японцы улыбнулись и поняли.
Епископ Николай — любимец японцев — был проповедник. После такой
беседы мы приступили к чаю, а хозяин с челядью глядели на нас... Но
чашки были малы и чай невкусен. Я сказал тогда: "Чашки ваши малы, нам
нужно вот какие" (тут показал я объем котла)... Наши собеседники все
захохотали, и слышал я слова сквозь смех их: "Рус, рус, хара, зео!" (у русских большой желудок).
[Куда, куда мчатся кони бледные жизни моей? Куда они везут меня —
к черной ли гибели, к пропасти бездонной или к восходящему солнцу
великой радости, туда, за лес дремучий, где пролегала дорога жизни моей
тяжелой? Куда мчатся черные и белые кони, дни и ночи быстролетные?
Зачем родился я и ради чего умереть я должен?
Ничего не знает безумный Гараморт. Но одному посвятил я жизнь
свою — изобразить думы и странствия, и быстро ходит перо мое по
бумаге, чтобы потомкам оставить алмазы горючих слез и злаки полезные
дум тяжелых.
Летописец земли, изображу я всех друзей моих, а потом перейду и к
врагам своим...
Безумие Гараморта велико, как звездное небо, и достойно изучения,
страсти его бурны, как водопады, но сомкнул он душу свою в ремни
железные отшельнической жизни и, сидя в голубой келье, видел все, что
делалось на земле и на небе.]
Насытившись беседой с нами, в которой движения глаз и рук играли
большую роль, чем слова, хозяин и челядь его встали и ушли.
Немного спустя, неожиданно одна стена раскрылась (оказалось, она
передвижная), и девица принесла нам постель; другая стена открылась —
и принесли подушки. Девушки нам дали знак рукою, чтобы мы ложились
спать. Наши пиджаки и все прочие части одежды они аккуратно сложили и
положили в угол комнаты. Затем принесли синий полог, и покрыли им нас,
как колпаком, а затем, что-то сказав, ушли. Кузьмич и я лежали рядом на
полу, не зная что думать и что сказать.
— Кузьмич, — обратился я к товарищу, — в разных частях земли
бывал я, но в таком бедственном и беспомощном положении никогда не
оказывался. Подумай, мы не знаем, на какой улице находимся, мы в городе
чужом, где никто не знает нас, и мы никого не знаем. Лежим на полу
ночною порою. Стены передвижные, и запереть их нельзя. Что всего хуже,
отобрали у нас сапоги еще там, внизу... В случае, может, вздумали бы
бежать, не во что обуть себя... Ты что думаешь на этот счет, Кузьмич, где
мы и что мы, или сон видали какой глубокий и невиданный доселе?
— Уж не знаю, что и думать, — ответил Кузьмич, вздохнув...
В это время услыхали мы шаги. Старик с австралийским лицом,
полуголый, прошел мимо и, продвинув переднюю стену, вышел туда, на
террасу, и, взяв в руки два куска дерева, стал стучать ими, изображая из
себя караульщика...
— Вот у нас телохранитель, Кузьмич, но это ветхий старик вроде
австралийского дикаря, в руке у него две маленькие палочки.
Это скорее идея караульщика, чем настоящий и доподлинный.
— Да, да...
И нам стало жутко.
Хотя спать хотелось, но не могли мы спать...
Нам чудилось, вот-вот стена передвинется, и Бог весть кто войдет: ни
крючков, ни запоров, никакой изолированности...
"Бог мой! — сказал я, — только на тебя теперь надежда". И после того
уснул, успокоенный верой своей... Но товарищ мой, как оказалось, плохо
спал.
Но вот ночь прошла, и божественное утро наступило. Заря показалась
над великим неизвестным городом, а за ней и ни с чем несравнимое
прекрасное солнце...
Мы встали, и горничная принесла нам воды, и мы умылись.
Затем опять горшок появился с пеплом и на нем чайник. Мы заварили
свой русский чай, о котором уж соскучились. Бутерброды были тоже
принесены и немного молока, по полстакана... Насытившись, мы вышли
на улицу, надев у лестницы свои сапоги. Я им чрезвычайно
обрадовался... Какое же было мое удивление, когда оказалось, что мы
как раз ночевали против университета.
Туда мы и направились и вошли через большие ворота. Университет
построен в европейском стиле, он состоит из каменных красных домов.
Костин пошел справляться, где можно увидать ректора, какие
библиотеки там, я же гулял в саду. Пруд был большой недалеко, а кругом
него росли какие-то деревья с большими широкими листьями. Какие это
деревья, я не мог сказать, а спросить было не у кого.
По ту сторону пруда дачные дома были построены — не профессоры
ли там живут? Сел на камень и задумался я о жизни Востока и о
японском племени...
Читая книгу Ив. Сенумы, я снова удивлялся.
"Кумо" — облако по-японски, по-зырянски "кьшор", "хи-би" — огонь,
по-зырянски "би". "Анэ" — старшая сестра, по-нашему "ань"...
Сотни слов были одинаковы и по смыслу, и по значению, и
грамматика родственна... Чудеса... Что, если японцы — древние зыряне,
смешанные с какими-то австралийскими племенами, с малайцами? Или
я с ума сошел от утомления, и чудится мне невероятное?..
Между тем Кузьмич пришел и заявил, что через несколько дней
ректор будет, но сейчас он на даче, и что на днях можно будет изучить
библиотеки японские.
— Это все хорошо, но гляжу я на пруд и на неизвестные деревья и
убеждаюсь, что я с ума сошел, вижу я, что лица японские напоминают
зырян, а некоторые — австралийцев, в языке их слышу зырянские корни.
Милый Кузьмич, я с ума сошел, стоило ли для этого приезжать в Токио, я
и в Питере мог бы с ума сойти.
— Подожди ты, — ответил Кузьмич и вынул из кармана
путеводитель с японским словарем.
— Как у вас камень?
—Из.
— А у них иси. Как дверь?
— Одзес.
— Ну вот, у них не так, дверь по-японски "до".
— А у нас "то-ман" — замок.
— А как водная равнина?
—"Ты".
— А у них "та". Как пруд?
— Колодезь у нас "юк", "юк мое".
— А у них "юки". А отец?
— "Ай".
— А у японцев "ойязи".
— Черт знает, — сказал Кузьмин, — действительно что-то есть. Но
ты, Гараморт, пока с ума не сходи, ты, наверное, еще успеешь и ума
лишиться, но пока помедли и изучи это все... Теперь мы пойдем к озеру
лотосов.
И мы направились, выйдя из парка университета, снова к озеру... И
вскоре увидали чудное чудо. Прозрачный пруд, или небольшое озеро,
сплошь было покрыто крупными белыми и розовыми цветами лотоса. На
тонких стеблях, укрепленных на дне озера, эти лилии, стократ превосходя-
щие наши водяные лилии, нежно покоились на гладкой поверхности озера.
И половина озера казалась белой, другая розовой от цвета бутонов с
детскую голову по величине, и казалось, издавали неизъяснимо тонкий
аромат и вместе с ним радость и бодрость на всю окрестность озера.
Прикованные невиданным зрелищем, стояли мы с Кузьми-чом в
невыразимом восторге и в немом удивлении. "Вот к чему способна
таинственная природа в своем гениальном творчестве, безмерно
превышающем человеческие таланты. Вот они, лотосы, о которых говорил
Гомер..."
"Мирных они лотофагов нашли там; и посланным нашим зла лотофаги
не сделали; их с дружелюбной лаской встретив, им лотоса дали отведать
они; но лишь только сладко-медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно
все позабыл и, утратив желанье назад возвратиться, вдруг захотел в
стране лотофагов остаться, чтобы вкусный лотос сбирать, навсегда от
своей отказавшись отчизны".
Да, я понимаю спутников Одиссея, многоопытного мужа. Глядя на
озеро лотосов, забыл я отчизну свою и цели жизни. Я только одно
твердил: "Вот они, лотосы! Как прекрасны они, дети вод, ни с чем не
сравнимые водяные лилии Востока!"
Да, да... Теперь понимаю я индусов, которые сравнивали таинственные
основы мира с лотосом...
И весь мир ведь — лотос волшебный, неизвестно откуда выросший и
на каких стеблях укрепленный. Но новые красоты духа все раскрывает
перед нами...
Долго дивились мы, стоя у пруда... Наконец, солнце стало печь
головы, и мы очнулись и пошли дальше.
Лотосы неба — звезды прекрасные — снились мне тогда. "О, если бы
некогда удалось мне, предавшись душевному покою, которого доныне не
имел я, созерцать цветы небесные и думать, и думать сладко о движении
миров великих и о целях и причинах мироздания, тогда поистине блажен
был бы я. Но будет ли это когда?" Так думал я, идучи за Кузьмичом по
мосту через озеро.
Если не случится это, незаконченным сойду я в могилу в надежде, что
на солнце снова буду жить я и там предамся размышлениям о величии мира, о бесконечности его и о неизвестных
глубинах его.
Мои думы были прерваны видом буддийского храма, сделанного из
гранита и мрамора.
Храм был небольшой, но исполнен в совершенстве. Маленькие
колонны и резьбы были высечены из мрамора и украшали его.
На переднем месте стояла статуя Будды, изваянная с великим
искусством и любовью каким-то японским Фидием. Глубокомыслие и
кротость были выражены в чертах Будды...
"Вот человек, напитавший умы и сердца Азии. Отрицая какой-либо
смысл в жизни, он дал его другим. Говоря о пустыне бытия, он наполнил
личностью своей сердца человеческие... Таинственная личность стала
богом непонятных ' для нас таинственных народов Азии."
Такие мысли были во мне, и я встал на колени перед Буддой вместе с
некоторыми японцами, которые тут же молились...
"Кроткий человек! Если дух твой имеет влияние и на наши времена,
помоги нам улучшить жизнь на севере и на юге, и на востоке, и на западе.
Помоги нам приблизиться к твоему незлобию и мудрости".
Так молился я великому богу Азии, и Кузьмич тоже благоговейно
глядел на мраморное изображение учителя Нирваны. Насыщенные
созерцанием красоты природы и искусства, мы вернулись обратно к
Камимуре. Здесь мы, снявши сапоги при входе, в туфлях вошли в свою
комнату и, сложив свое пальто по углам, легли на подушки около горшка
с пеплом.
Сидеть же нам было негде.
Пышноволосая, черноглазая японка принесла нам завтрак и чай, после
чего молодой человек с австралийским лицом пригласил нас в ванну.
Кузьмич отказался, он был утомлен и болен. Он просто таял от
тропической жары в Токио, а мне было терять нечего. И я пошел в ванну.
Пройдя за молодым человеком по разным коридорам и спустившись
вниз куда-то, я увидал в маленькой комнате огромный деревянный
четырехугольный ящик, полный теплой воды.
Человек предложил мне раздеться и войти в воду.
С некоторым сомнением вошел я в ящик. Вода была по грудь. Я
выкупался в ванне, но головы мыть не велел японец, а когда вышел я из
ванны, он подвел меня к маленькому сосуду с кипяченой водой и там стал
мыть мою голову. Когда всю церемонию мы окончили, я хотел одеться, но
молодой человек сказал, что это не нужно, и накинул мне на плечи кимоно
и велел идти полуодетым. "Ведь так же
неприлично", — говорил я ему. Но он плохо понимал меня, а одно
твердил: "Иди, иди". И я в одном кимоно, босой пошел по всем коридорам
и видел, что другие тоже не лучше меня одеты...
>В Японии все можно видеть, только смотреть ни на что нельзя, как
говорил Лоуэль.
Лежа на подушках в восточном костюме, снова насладился я японским
чаем.
Так зажили мирно мы в гостинице Камимуры...
Я только тосковал по стульям, но через несколько дней где-то добыли
и принесли нам одно кресло.
[Конечно, область чувств души моей больна. То гляжу на небо я,
чтобы высокое чувство наполняло мою душу, чувство бесконечности и
неведомого, то на людей гляжу я, не обнаружит ли кто нежности ко мне.
Но чаще голодаю сердцем моим...
Когда же насыщается область чувств души моей, сейчас же
пробуждается жажда мыслей великих о сущности мира и о движении
светил небесных... Но эта жажда лишь отчасти утоляется. И так, в поисках
за насыщением души, я все куда-то иду, все странствую. Благодаря этой
причине я попал и в Японию, но когда оказался там, не знал, для чего,
собственно, приехал... Да, душа чувств моих больна. Слишком горе было
велико мое, и невредимо не мог перенести я душевную трагедию свою.
Мне жаль, до боли жаль, что утрачивается древняя жизнь на севере и
языки звучные исчезают, и никто не воспевает природу на этих языках.
Мои же опыты северной поэзии встречаются людьми равнодушием.
Интеллигенты не любят поэзию и признают лишь романы, рисующие
ужасы невежественного общества... И вот заболела душа моя, и это
помешало заняться мне спокойно изучением неба...
Попав в Японию, с великим удивлением глядел я, что граждане этой
страны умеют древний уклад жизни сочетать с новыми открытиями науки
и с высокой техникой. Счастливый народ Востока!]
|