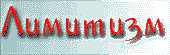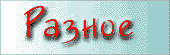|
Где я? В какой
светозарной
таинственной
стране, где все
просто и изящно?
— Кузьмич, во сне мы или наяву?
— Сам не знаю.
И весь мир ведь — лотос волшебный, неизвестно откуда выросший и на каких стеблях укрепленный. Но новые красоты духа все раскрывает перед нами...
Бог мой, благодарю тебя, что показал мне страну прекрасную, Японию, и открыл новые чудеса языка, и вернул меня в дорогую родину мою целым и невредимым.
|
На пароходе "Симбирск", в 1-м классе, как господа великие, хотя на
самом деле мы были два бедняка, отправились мы, миновав залив Петра Великого, в Японское море. С великим
любопытством глядел я, как берега исчезали, превращаясь как бы в
отрывки отдаленных скользящих вдоль горизонта облаков.
Землистость исчезла, и все стало воздушным в голубой дали, вскоре
мы видели только окружную равнину моря, слиянную с куполом неба
едва заметной линией горизонта. Не без душевного волнения глядели мы с
Кузьмичом с палубы парохода, как волны возрастали кругом, а лежащие
внизу их подволны все выше поднимали свои головы.
Все сложно, ритмично в этом мире, думал я, как живая поверхность
этого моря.
Оба мы боялись морской болезни. Когда спускались вниз, в каюту,
там чувствовали мы еще большую качку. Ни пить, ни есть там было
нельзя, чашки падали из рук, ложка в рот не попадала. Чувствовалось
головокружение и какая-то тоскливость. Умный Кузьмич лег на свою
койку, закупорив уши ватой (какой-то деляга посоветовал ему). Тогда я
один пустился бродить по столовой, держась то за один, то за другой
столб. "Нет, Гараморт, ты не ложись, а выпей бутылку пива для храбрости
и иди на палубу, ты к нежностям не привык, суровый сын севера".
Так я и сделал, как посоветовал себе. Выпил бутылку пива, которую
принес мне официант, и пошел на палубу...
Между тем ночь спускалась с неба на море, пассажиры и матросы все
ушли по своим норам, и длинная палуба была пуста... Вскоре луна
показалась где-то вдали. Качаясь из стороны в сторону, ходил я по
палубе, вглядываясь в бурную, клокочущую темноту моря и неба.
Часто приближался я к носу парохода и любовался величественной
картиной... Я видел, как сначала нос парохода долго и высоко поднимался,
как бы стремясь достичь остриями своими мимо проходящих облаков, но
затем начинал спускаться в бездну, долго, долго, желая коснуться дна
Японского моря, приветствуя Бога, живущего где-нибудь там, в глубинах
земли... Луна порою видела все это, мелькая между отрывками облаков,
порою закрывала лицо свое, как бы боясь появления тайфуна и
кораблекрушения...
Душа моя умилилась от величественной картины волнующегося и
грозно ревущего моря, и я, сняв шапку, кому-то молился, но не о
спасении своем, а выражал я молитвой благодарность...
И тут я вспомнил, глядя на море, на луну и на облака, что недавно
много воинов русских и японских ушли на дно... И слезы ручьем полились
по щекам моим.
"Друзья мои милые! Спустились на дно вы великого моря, хотя и
знали, что глубоко оно. Рыцари духа, безвестные герои, ибо только малую
часть из вас вспомнит история пo именам, остальные будут неизвестны миру; но вы истинные
рыцари духа, не из славы, почести или корыстолюбия, а из любви к
родине не испугались волн разъяренного моря и спустились туда, и
уснули там — иные, качаясь в волнах, иные в пасти рыб, акул и других
чудовищ...
Да, награда вам будет богатая на солнце, когда оно станет планетой,
будете вы в лучших формах, обнаружив здесь, на малой несчастной земле
высокую любовь к родине своей и святую верность долгу".
Так вспоминал я моряков, погибших в прошлую войну, и плакал один
на палубе, держась за медные шесты перил...
И сладко мне было от слез моих, и горестно моему сердцу... А волны
между тем шумели, облака шли над головою, луна порою глядела на
меня, она ведь тоже любит людей, а корма и нос неустанно качались
вверх и вниз.
Под утро, когда заря стала заниматься над бушующим безбрежным
морем, я, утомленный от дум о жизни человеческой, спустился тихонько
в каюту свою и лег на койку, и уснул глубоким сном, нс ведая никакой
морской болезни.
К 12 часам дня я проснулся и пошел в столовую завтракать. Там
сидели англичанин и француз, а с ними вместе и капитан парохода.
Шатаясь после бессонной ночи, пришел к нам и Кузьмич, который все
чем-то страдал... Я заговорил с англичанином из Сиднея по-немецки и
хвалил английских философов. Он или плохо знал немецкий, или мало
понимал в философии, больше поддакивал, чем говорил, хотя был с виду
очень солиден; когда я ушел от завтрака на палубу, он спросил про меня
Костина по-немецки: "Не пастор ли он?"
— Нет, не пастор, хотя и проповедник, — ответил Кузьмич.
Француз же и капитан все время говорили по-английски о торговых
делах востока, об оборотах Шанхая, Нагасаки, Сиднея и т.д.
Еще день прошел у нас на бурном море. К вечеру увидал я дым за
горизонтом — это пароход шел из Цуруги во Владивосток. Парохода же
не было видно из-за горба поверхности земного шара...
Следующая ночь прошла благополучно, как и день. Наступило
второе утро.
И когда вышли мы с Кузьмичом на палубу, то увидали пред собою
высокие лесистые берега Японии. Сердце затрепетало у нас в груди...
"Япония"! — мысленно твердили мы. А вдали, как детские игрушки, были
какие-то постройки на берегу — то был
город Цуруга.
Матросы, стоя около нас, говорили, что тайфун прошел в море в то
время, как пароход юркнул в гавань Цуруги...
Счастливо избежали мы опасности.
Невдалеке от нас группа японцев стояла на борту парохода и глядела
на свои родные берега: глаза у них были влажные от слез умиления.
Японцы посмотрели в нашу сторону, желая убедиться, не плачем ли и мы
от умиления пред высокими берегами таинственной Японии. Мы хоть не
плакали, но поражены были высотою гор, возвышающихся над морем.
Они тянулись далеко и где-то исчезали за горизонтом.
Пароход, близко подойдя к пристани Цуруги, остановился, а лодки
уже плыли навстречу ему.
Не успели мы оглянуться, как стали заглядывать быстроглазые
черные парни в двери столовой первого класса. То были японцы. Но
официанты отгоняли их.
Наконец, вещи наши вынесены и положены в большую лодку к
японцам и привезены на берег, в таможню. Маленького роста чиновники-японцы при осмотре были более чем деликатны.
Они произвели на меня самое благоприятное впечатление. Отсюда
пошли мы разменять деньги к Хазиади, сухощавому, маленького роста
быстроглазому меняле. Он дал нам японские деньги вместо русских и,
узнавши от нас, что желаем попить чаю по русскому обыкновению,
пригласил к себе на квартиру — в маленький домик с небольшими
комнатами, и здесь напоил нас чаем с молоком и с белым хлебом. Мы были
очень довольны и щедро поблагодарили его деньгами. Он же взялся
провожать нас и на вокзал и купил нам билеты до Токио. Затем к нам
подъехали рикши со своими тележками. Вещи уложили мы в одну
тележку, сами сели на двух рикш. И те побежали рысью по узким улицам
Цуруги...
Мы видели по обеим сторонам улиц маленькие постройки без дверей и
даже без передних стен, так что все было видно, что делалось внутри. Мы
дивились диву и были наверху блаженства. "Вот так Япония", — думал
я... Вдали же, за городом, возвышались высокие горы. Рикши скоро
привезли нас на вокзал.
Хазиади все время объяснял нам по-русски (он прекрасно говорил по-
русски) значение построек, видимых с вокзала на ближайших горах. Там
были похоронены какие-то самураи. "Там и храм есть, — говорил он, — и
зеркало при входе."
Я глядел на Хазиади и невольно вспоминал зырянские лица: он
напоминал их и по складу речи, и по характеру.
— Я мог бы и проводником быть, — продолжал он дальше, — я раз
ездил с русским писателем, с Данченко. Даже мог бы быть на Формозе, где
живут дикари.
Но проводник был нам не нужен, и мы расстались с ним, когда он
посадил нас в вагон.
|